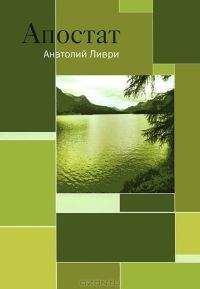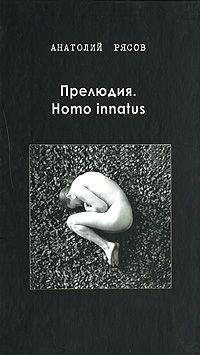Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]
Солнце, уже описав свой полукруг, освещает горы с другой стороны ущелья, а напротив маленькая индиговая тучка плотно сыплет серую манну на стадо коров, повернувших ко мне свой однорогий пятнистый профиль, да на сосновый лес, карабкающийся к хмурой вершине в фиолетовой юбке.
Я слизываю с ножа семейство медовых капель: отца, мать и двоих детей; подхожу к книжной полке; снимаю с нижнего, наименее пыльного стеллажа гремящую изнутри коробку; расставляю фигуры в боевом порядке, с непривычки путая мужеподобную королеву и её толстобёдрого супруга. Когда же две враждующие стороны, насупившись, стоят друг против друга, в окно влетает темно–зелёная муха–великанша и принимается кружить над полем шахматной брани. Я хватаю раскрытого Гулливера и с размаху бью по пикирующему над королевой насекомому. Чёрный слон летит на пол, пешки валятся в беспорядке, толкая друг друга боками, ладья кружит на месте и тоже слетает с доски. Сражённая муха падает на G4, жужжит что есть мочи: «Ззззи–зззи» — и, забившись в судорогах, испускает дух на D3. Я скидываю её на огненный паркет, и поросята весело окружают нежданное яство. Затем я кладу на стол расправившего крылья Гулливера и принимаюсь облизывать гладкий костяной воротничок покорного короля. Мой язык ощущает сейчас каждую впадинку, каждый изгиб, каждый пощажённый лаком изъян фигурки. После я берусь за черногривого безногого коня и, не выпуская изо рта корону лишённого лица белокожего монарха, начинаю переставлять дрессированного скакуна с G1 на I2, с H3 на J4, а оттуда ещё дальше — на L5.
Так проходит ещё несколько часов. Поросята спят на отвергнутой ими мухе. Туча напротив уже излила себя и сейчас, пронзённая широкой радугой, изящно висит в воздухе дымкой пушечного выстрела. Сумасшедшая тень бабочки, как чёрный мячик, прыгает по кирпичной стене, а с самого апреля квартирующая в саду цикада урчит свою вечернюю песню.
Громкоголосый граммофон в салоне испускает змеиный шип, и медленно и величественно музыка начинает разгон. Мелодия льётся всё мощнее, и вот ураган звуков уже не удержишь ничем. С радостным звоном он распахивает окно, проносится по саду, играет там вишнёвыми листьями, завихряется, переходит в галоп и улетает в горы. Чтобы лучше видеть эту лихую скачку, я подхожу к подоконнику и представляю себя скачущей по сказочному бору в объятьях отца на невидимом в ночи иноходце.
Симфония вздымается девятым валом, нависает надо мной и плотоядно раскрывает свою пасть. Блаженство распирает мне пах, пузырьком подскакивает к сердцу и неожиданно лопается одновременно с гигантским розовым шаром музыки, способным вместить и меня, и брата Рене. Я в изнеможении прикрываю глаза и тут же ощущаю под левым веком твёрдую соринку; кончиком языка облизываю мизинец, провожу им по глазу, — раз, другой, третий, — и угольная пылинка переходит на подушечку пальца.
Уже в чёрном, под цвет ночи платье мама появляется в комнате, сверкая и дыша ещё полной музыки улыбкой. Она подходит ко мне, опускается на колени, обнимает меня, прижимается ко мне грудью и правой щекой. В молчании мы разглядываем мерцающий небесный ковёр, чётко видимое созвездие Стрельца, рябую луну, купающуюся в Сильваплане и залитый ослепительным огнём замок.
Спать мне вовсе не хочется — к вечеру на меня всегда нападает дикое веселье, желание снова носиться на четвереньках за душками–поросятами или же бежать в сумрачную конюшню и скармливать там колючий лакомый шелест мудрым животным с мягкими благодарными губами.
Мама помогает мне расстегнуть тугой крючок, снять платье, надеть свежевыглаженную ночную рубашку; спрашивает, не голодна ли я — ела–то я сегодня только раз, — выдавливает на посеревшую зубную щётку тёмную, но всё ещё сладкую пасту и наблюдает, как я, оскалившись, вожу щетиной по ровному ряду зубов с небольшой прорехой. Затем она расплетает мою косу, целует меня в затылок, подводит к постели, хлещет по левой щеке подушку и укладывает меня на напитанную шёлковым электричеством простыню.
Надо сказать, что мама суеверна, особенно когда дело касается цифр; и при любом упоминании этих бедных «тринадцати» или же «шестисот шестидесяти шести» её губы сжимаются в тонкую полоску и хищно раздуваются обычно столь узкие ноздри. Сегодня как раз тринадцатое, и поэтому мама считает, что следует подойти с чрезвычайной внимательностью к обряду вечерней сказки.
Она поднимает с пола и, неслышно ступая, выносит заснувших поросят, возвращается, включает ночник, прячет прямоугольное лицо ночи под тотчас задышавшей тюлевой вуалью, садится на край постели, стряхивает с белой простыни ресничку — всё это с мечтательным выражением глаз. Медленно гладит мне левую руку от запястья до плеча и обратно, вдруг озаряется радостной улыбкой, и я слушаю историю про играющего с мопсиками одинокого короля: миндалевый прищур, белоснежный, как лепестки лилии, воротничок, польская шапка, рубиновые пуговицы широкоплечего камзола да орден Святого Духа на тёмно–изумрудной ленте. Король проносится по полю Жарнака, его конь в сумасшедшем беге пронзает Европу, цокает по брусчатке Бетизи, высекает искры на Сен — Марко, вороной грудью взрезает краковские сугробы. Мамин голос прядёт свою пряжу, останавливается, распускает нить и снова принимается за работу. Тюлевый парус наполняется ветром. Гора напротив плавно трогается с места, и, всё ещё силясь ухватиться за удаляющийся от меня мамин камертон, я погружаюсь туда, где из–под пахнущей миррой и мёдом кисеи голубого тумана слышится задорное похрюкивание, где копыта трагелафов из весёлой папиной книжки роют влажную тропинку, теряющуюся меж сосновых ветвей, откуда мне улыбаются высоколобые конские морды. Я бросаюсь к ним. Корабельные мачты шумят своими хвойными кронами. Чаща потягивается, в блаженной неге зевает и проглатывает меня: А! А–а–а-а-а! Ещё немножко! Ещё!.. Взревев по–ослиному, оконная рама захлопывается, выпускает когти, крепко–накрепко впивается в подоконник, но с улицы всё равно слышатся истошные вопли: «Nick le Pen! Vive la République! Á mort facho raciste! Vive la démocratie!».
Закрыв окно, моя правнучка продолжает подметать пол, но её негритянские губы не перестают шептать: «Mort a la France!». Наконец она ставит метлу в угол, задирает прозрачную рубашку, оправляет цветастый лифчик, подтягивает до пупа синюю юбку так, чтобы вышитый золотом длинноусый сталинский портрет оказался на самом заду, сверяется с часами, ненавидяще смотрит на меня и выбегает из комнаты.
«У–у–у-у–у–у!», — перекрикивает толпа рваные гудки автомобилей и гугнивого истерика с мегафоном. По площади Республики освещённый желчью прожекторов многорукий монстр проносит красные плакаты. «Ник — Ник-Ник — Леп-Леп — Леп-Мор — Мор-Мор — Фра-Фра — Фра», — нестройно скандируют тысячи глоток. Из чудовищного брюха слышится урчание «Марсельезы». Исполинские тени бегемотов и левиафанов дрожат на стене спальни. Чей–то невидимый кулак нещадно сжимает мне сердце, и тупая, нечеловеческая боль захлёстывает меня. Вся в испарине, я изгибаюсь по–кошачьи и что есть силы дёргаю шнур звонка в форме раскрытой пасти змеи, чей хвост тотчас отзывается в коридоре металлическими погремушками, напоминающими лягушачий хор: «Брекекекекс — квак — квак — брекекекекс — квак — квак». Ещё. Ещё раз. И лишь когда квартира переполняется кваканьем, в комнату боком входит моя внучка — необъятных габаритов мулатка в жёлтом суданском платье до щиколоток, с огромными ушами, парой неспокойных подбородков и «птичьим гнездом» на макушке. Громыхая дюжиной золотых браслетов, она хватает мою всю в изумрудных прожилках руку, в поисках бешеного пульса сжимает запястье своей потной пегой ладонью, с гадливостью смотрит на меня, и в её выпученных мавританских глазах можно прочитать единственное слово — наследство.
В изнеможении я отворачиваюсь к стене. Внутри уже нет ни страха, ни ненависти, ни отчаяния — только пустота да жуткая боль, разрывающая мою грудь на части.
«Почему именно сегодня мне приснился день моего детства? Почему? Почему?». «У–у–у-у–у–у», — воет Марсельеза; «Ник — Ник-Ник — Леп-Леп — Леп-Мор — Мор-Мор — Фра-Фра — Фра», — лает чернорукий легион за окном. Я стискиваю беззубые дёсны и вижу, как другая чернокожая рука с электронными часиками, показывающими шесть минут восьмого, подносит к моему лицу карманное зеркальце. Тщетно я силюсь согреть его дымкой дыхания, чтобы не видеть этих глубоких старческих морщин, умоляющего выражения карих глаз и неряшливых седых косм. Гортанный голос с удовлетворением изрыгает: «Пиздец бабке!» Волна накатывается. Тьма растворяет озарённую неоновым светом спальню, утомлённую метлу в углу, увядший букет фиалок, чёрную руку в жёлтом рукаве. Моё отражение медленно исчезает из круглого зеркальца… Чаща расступается, и величественный рогатый силуэт неслышно проносится по тропе. Коленками в рваных колготках я опускаюсь на синеющий под слоем тумана упругий дёрн; руками, так похожими на руки братика Рене, шарю в зарослях папоротника и влажных ландышах; отмеченными гуашью пальцами нащупываю мягкошерстное тёплое тельце; что есть мочи прижимаю к моей почти мальчишеской груди довольного розового поросёнка и сквозь белое, с голубыми лилиями платье чувствую его неспокойные копытца и пятачок. Слёзы вскипают, двумя жаркими струями заливают мне щёки: «Хрю — Хрю-Хрю — Кьик-Кьик — Кьик-Кьик — Кьик!», — верещу я. Лошадиная голова склоняется ко мне, обдаёт меня облаком густого пара, нежными улыбающимися губами проводит по щеке: А! А–а–а-а-а! Ещё немножко! Ещё! Ах как хорошо! А! А–а–а-а–а–а-а!..